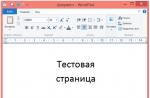Ольга Орлова: Политология как раздел философии, основанная Аристотелем в Античности, и политология как рефлексия актуальных событий - какая между ними связь? И чем настоящий ученый-политолог отличается от обычного политического спекулянта? Об этом по гамбургскому счету мы решили спросить доцента кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерину Шульман.
Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что пришли к нам в программу.
Екатерина Шульман: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Екатерина Шульман - родилась в 1978 году в Туле. В 1999 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1996 по 1999 год работала специалистом в Управлении общей политики Администрации города Тулы. С 1999 по 2006 год работала в Государственной Думе, занимала должности помощника депутата, сотрудника аппарата фракции, эксперта Аналитического управления центрального аппарата. С 2007 по 2011 год была директором по исследованию законодательства консалтинговой компании PBN Company.
В 2013-м защитила кандидатскую диссертацию по теме "Политические условия и факторы трансформации законотворческого процесса в современной России". С 2014 года - преподаватель РАНХиГС, доцент кафедры государственного управления. Автор книг "Законотворчество как политический процесс", "Практическая политология: пособие по контакту с реальностью". Автор публикаций в российских, немецких и американских научных журналах. Колумнист изданий "Ведомости", Republic, New Times. Ведет авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы", посвященную прошлому и настоящему политической науки.
О.О.: Знаете, Екатерина, у нас первый раз в студии политолог. И это не удивительно. У нас же научно-популярная передача?
Е.Ш.: Да.
О.О.: Наша задача, научных журналистов, - доносить до зрителя сложные научные знания. А политологи вообще легко обходятся без нас. Не это ли является некоторым распространенным ироничным отношением к науке политологии?
Я процитирую одну из ваших коллег. Мадина Шахбиева, сотрудник Института общественных наук ИНИОН: "Из всех наук о человеке и обществе самой лишней я считаю политологию. Один из редких случаев, когда теория расходится с практикой. Как наука она не дает знания, позволяющие сделать прогноз и остановить хотя бы один политический конфликт. Самое многое, что она может - это обсуждать постфактум".
Е.Ш.: Это действительно распространенное мнение, часто приходится его слышать. Все это довольно грустно, но в общем понятно, обусловлено объективными причинами.
Во-первых, все науки об обществе в нашей стране несут на себе тяжкую печать советской власти. Понятно, что именно в этой сфере изоляция советской науки от науки мировой была максимальной, никаких контактов быть не могло. Наука была тяжко идеологизирована и, в общем, занималась оправданием существующего порядка вещей. Поэтому довольно больше количество людей, которые после 91-го года стали называть себя политологами, были в "девичестве" марксистко-ленинскими философами.
О.О.: Идеологами.
Е.Ш.: Идеологами, партработниками.
О.О.: Пропагандистами.
Е.Ш.: Совершенно верно. Политагитаторами. И свои нравы, свои представления о прекрасном, свое целеполагание они перенесли в то, что они начали называть политической наукой. Это, конечно, все в высшей степени печально. Под этим есть еще более базовый спор "физиков" и "лириков". Представители точных наук вообще не любят представителей наук, как им кажется, менее точных, то есть тех, которые не основаны на расчетах. Поэтому можно услышать, что и филология не наука…
О.О.: История не наука.
Е.Ш.: "История не наука, потому что она дескриптивная". "Психология не наука, потому что это вообще треп один". Это все понятно. Хардкорные медики не любят психологов. Лингвисты, пользующиеся математическими моделями, не любят филологов.
О.О.: Не любят литературоведов.
Е.Ш.: Да, называя их литературоведами. "И это вообще неизвестно что, это для школы, "Что хотел сказать автор?", - разговоры на таком уровне. Понятно. Политологов не любит тоже много кто. Не любят, например, экономисты, которые говорят: "У нас-то расчеты, подсчеты и опять же модели, много-много цифр и красивые графики. А у вас что? А у вас какие-то сплетни и рассуждения о том, какой начальник что подумал".
О.О.: Вот. Давайте мы сейчас об этом подробнее поговорим. Есть обязательно такая тема в научной журналистике - это рассказать, как отличить… журналистам объяснить, как отличить настоящего сварщика от ненастоящего, настоящего ученого от лжеученого.
Е.Ш.: "Ученый здорового человека" и "ученый курильщика" - вот две картинки.
О.О.: Да. И есть целый ряд "народных примет", по которым ты объясняешь студентам: "Смотри, вот есть такие признаки, такие. У лжеученого - такие, такие, такие". И, как правило, мы в основном находимся в поле естественных наук, точных наук и, скажем, историков, лингвистов, гуманитариев. Но никогда я не слышала ни одного научного журналиста, который бы рассказывал о том, как отличить настоящего политолога от ненастоящего, от комментатора.
Е.Ш.: Давайте попробуем все-таки это понять.
О.О.: И давайте вы поделитесь этим сакральным знанием. Ряд "народных примет", по которым не только журналист, но и обычный зритель, слушатель, когда он включает радио или смотрит телевизор, чтобы у него вдруг что-то там щелкнуло - и он уже мог что-то понять, с кем он сейчас имеет дело.
Е.Ш.: Смотрите, ряд признаков можно указать. Все-таки вернусь к нашей большой проблеме с терминологией. По-английски есть political scientist и есть political analyst или commentator, или кто-то еще в этом роде, expert. У нас это все называется политологами. И огромное количество народу называют себя политологами, потому что они говорят публично о политике. И это, конечно, ученым очень обидно такое слышать. Хотелось бы какого-то терминологического разделения, но русский язык нам этого делать не позволяет.
Поэтому какой базовый водораздел хочется провести? Есть люди, занимающиеся наукой. Политическая наука - это наука, одна из наук об обществе, такая же, как социология, такая же, как антропология, как культурология. Экономика находится на стыке некотором, но тоже все это науки, изучающие общество и поведение людей в обществе.
Соответственно, для того чтобы называться политологом в этом смысле, необходимо иметь базовое образование и хорошо бы ученую степень. Но в нашей ситуации это тоже не может быть каким-то окончательным признаком, потому что много кто получает много какие дипломы, а кто-то их в переходе купил - и поди проверь. А уж с учеными степенями (с особенной грустью говорю) у нас, конечно, беда. Тем не менее, вот несколько базовых признаков, по которым можно отличить "политолога здорового человека" от "политолога курильщика".
Образование все-таки должно быть. Ученая степень - хорошо бы, чтобы была. При этом, например, если человек кандидат и доктор, то хорошо, если у него кандидатская и докторская как-то связаны между собой тематически, а не, например, тут он защищался, я не знаю, по партийности, а дальше он защищается по антиколониальной борьбе в Африке. Ну, как-то это подозрительно.
Хорошо, когда есть какая-то консеквентность, продленность. Хорошо, когда человек относится к некой большой научной институции - это, в общем, базово лучший признак, чем если он директор института имени себя. Потому что, как вы понимаете, у нас все нынче являются председателями фондов какой-нибудь глобализации и демократизации, или наоборот - скреп…
О.О.: Или "директор стратегического прогнозирования…", и дальше - чего-то, прогнозирования чего-то.
Е.Ш.: Да. Если человек работает в рамках большой структуры, такой как, например, Высшая школа экономики, то это хороший признак сам по себе. Если человек имеет публикации, в том числе публикации в западной научной прессе, - это тоже важно. Это вы не узнаете, пока вы не будете его гуглить и смотреть в "Википедии", вы не определите это на слух.
О.О.: Да, это скорее все-таки знание журналиста. То есть журналист может его "пробить", есть ли у него публикация.
Е.Ш.: Проверить.
О.О.: А зритель, скорее, конечно, этого делать не будет.
Е.Ш.: Зритель не будет этого делать. Журналист это сделать, мне кажется, обязан. Он может посмотреть и индекс цитируемости. Он может посмотреть и последние публикации. Он может посмотреть, где человек читает лекции, и читает ли он, потому что ученые стремятся, в общем, преподавать. Внутри люди знают все, кто чего стоит. Но человеку снаружи, даже если он научный журналист, довольно трудно докопаться до этой подлинной репутации.
О.О.: Смотрите, тут про репутацию. Не так давно Алексей Навальный заявил, что у нас вообще в стране всего три политолога, включая вас…
Е.Ш.: Четыре
Е.Ш.: Это как-то грустно мало. Те люди, которых он назвал… Опять же я не говорю сейчас о себе. Те остальные трое, которых он назвал, - в высшей степени достойные люди. Из перечисленных четырех двое работают в России - это Кынев и я. Голосов и Гельман находятся вне России. Ну, на самом деле не так уж плохо: стакан наполовину полон, наполовину пуст. Кынев пишет очень много, пишет книги выпускает большие статьи.
О.О.: Публицистика.
Е.Ш.: В том числе и публицистика. На самом деле все перечисленные люди выступают в прессе. Гельман не так сильно это любит, он вот такой академический человек, он много преподает. Голосов пишет, я пишу, Кынев пишет. Мы все даем интервью, мы даем комментарии по текущим вопросам.
То есть тут тоже сказать, что есть какие-то настоящие политологи, которые скрываются в земле египетской, в пещере, и там предаются аскезе и академизму - это неправда. Люди стремятся высказываться. Когда их спрашивают, они отвечают на вопросы. Ограничивается ли этими людьми весь круг достойных политологов в России? Нет конечно. Вообще, вопреки тому, что можно подумать, на уровне именно научном у нас происходит некоторое возрождение и ренессанс. Это абсолютно объективно обусловлено. Когда я вам скажу, вы поймете, почему это происходит.
Во-первых, не было бы счастья, да несчастье помогло. Кому война, а кому мать родна. За последние 5-6 лет рост интереса к России вызвал возрождение и усиление тех программ Russian studies, которые имеются в западных университетах.
О.О.: То есть мы так ярко выступили на международной арене, что про нас вспомнили и все нами заинтересовались?
Е.Ш.: Был всплеск интереса в 90-е годы. Потом был спад - из русских курсов, русских отделений поуходило некоторое количество студентов, а стали заниматься чем-то, что казалось тогда более перспективным: Латинской американской, например, или Юго-Восточной Азией, или Северной Африкой, Ближним Востоком. С начала 2010-х - и особенно, конечно, после 2011-2012 года - интерес вернулся.
Еще раз повторю, буквально: кому война, а кому мать родна. Любой добросовестный политолог будет заниматься компаративистикой. Он будет сравнивать политические режимы похожего типа, находящиеся в разных концах света.
Вот вам, кстати, признак, который почти никогда не обманывает: если человек проводит исторические аналогии и не проводит аналогий, так сказать, географических, то это с большой долей вероятности шарлатан. Если он говорит: "У нас тут все, как при Иване Грозном. Вот при Иване Грозном, знаете, была опричнина, а тут у нас сейчас, я не знаю, засилье силовиков". Или наоборот: "Как вот было, - не знаю, опять же, - при Иване Грозном: Запад нас обманывал. И сейчас он нас обманывает". Это типичные шарлатанские разговоры.
Если человек сравнивает, например, латиноамериканские политические режимы с нашим, восточноазиатские политические режимы с нашим, если он приводит примеры из недавней истории… Понимаете, наша политическая наука имеет дело, еще раз, с настоящим, ближайшим будущим и ближайшим прошлым, поэтому для нас на 300 лет назад уходить - это, в общем, терять фокус.
О.О.: А скажите, является ли тот факт, что перед нами политолог, который продвигает те или иные конспирологические теории, когда что-то пытаются объяснить с точки зрения заговора против России или заговора против еще каких-то стран, против режима и так далее, - является ли этот факт какой-то приметой для нас? То есть "политолог курильщика" и "политолог здорового человека" - как они относятся между собой к конспирологическим теориям, используют ли они это?
Е.Ш.: Вообще, "политолог курильщика" отличается пристрастием к простым объяснениям, он вообще стремится объяснить все. Хотите взбесить специалиста в любой сфере знаний? Скажите ему слово "просто". Вот человек говорит: "Да все просто! Это они просто нас ненавидят". Или: "Это просто у нас президент плохой, надо его прогнать. Когда будет хороший президент, все будет хорошо".
Простота - это признак убогого мышления. Ничего не просто. Наша наука изучает крайне сложные системы и крайне сложные процессы, как и любая наука об обществе. Человеческий мозг сложнее всего во Вселенной. А социум - это констелляция мозгов, вступающих во взаимодействие друг с другом. Ничего сложнее этого не бывает. Поэтому простые объяснения, простые сюжеты…
О.О.: А конспирологические объяснения, теории заговора - они всегда простые?
Е.Ш.: Что такое конспирология? Конспирология - это минус мышление, это отрицательная рациональность. С одной стороны, она обладает признаками рациональности. Научная картина мира из чего складывается? Мы берем бесконечное множество фактов, выделяем из них главные, откидываем то, что нам кажется второстепенным, и выстраиваем некую последовательность. Вот у нас есть научная картина мира, которая достаточно гармонична.
Конспирология вроде бы делает то же самое: она тоже берет какие-то факты (часть придумывает, но какие-то и берет), откидывает все остальное как незначимое и выстраивает из этого свой сюжет. Их сюжет, сюжет конспирологов - он всегда прост и линеен. В нем всегда есть дихотомия зла и добра, которые борются между собой.
Еще один признак "политолога курильщика" - это, конечно, раздача оценок. Если вам рассказывают, что вот это однозначно плохо, а вот это однозначно хорошо, если вообще говорящий как-то очень сильно уверен в том, что он вам сейчас выставил эти полюса, и сейчас он вам расскажет, как отличить добро от зла, - это не очень хороший признак.
Хороший признак - это человек, который говорит: "если я не ошибаюсь", "я вряд ли ошибусь, если скажу, что…", "наука не пришла к единому мнению", "мы не знаем", "это вне сферы моей компетенции". Это хорошие признаки. И даже такие слова-маркеры, как "чтобы не соврать", "если память меня не подводит". Очень плохой признак, когда человек говорит: "Сейчас я вам правду скажу". Или так: "Давайте честно, давайте прямо". Вот это значит, что сейчас вам будут врать. Это не только к политологии относится, а это вообще психологи нам говорят. И это те признаки, которые не обманывают.
О.О.: "Я вам даже врать не буду", - есть и такое выражение.
Е.Ш.: Хотя казалось бы, да? "Как бы я сейчас мог прекрасно наврать, но не буду". Вот "если честно" - берегитесь такого рода словоформ, они достаточно красноречивы.
Еще одно свойство конспирологии - то, что делает ее такой привлекательной и одновременно такой вредной - это то, что она снимает ответственность с человека. Конспирологическое мышление построено на разделении мира на демиургов и массу. Есть тайное правительство, есть тайная организация: спецслужбы, масоны, иллюминаты, Бильдербергский клуб, опять же Ротшильды и рептилоиды (куда без них?), евреи, чекисты, неважно. Они управляют. У них есть план, они этот план претворяют в жизнь.
От поклонников конспирологии мы часто слышим фразы, типа: "Не дайте себя использовать". А как не дать себя использовать? А ничего не делать. Конспирология снимает ответственность с человека за его жизнь и за окружающее его пространство. Конспирология обесценивает любую деятельность, потому что она либо бессмысленна, потому что есть могучие силы, против которых не попрешь, либо она встроена в план этих могучих сил, и что бы вы ни делали, как бы вы ни барахтались, вы способствуете реализации того сценария, который задумал рептилоид. То есть опять все бесполезно.
Таким образом, конспирологическая теория, давая вам это ложное чувство привычности и безопасности, она продуцирует в вас пассивность. Выученная беспомощность - это, к сожалению, психологический факт. И для граждан, переживших тоталитарный опыт и продолжающих переживать опыт авторитарный, это вполне себе реальность. Все знают, что такое выученная беспомощность, да? Когда собачку бьют током при любой попытке куда-нибудь попрыгать, а потом уже и забора нет, и прыгать можно, и ничто не удерживает ее в том месте, где ее бьют током…
О.О.: Но она не прыгает.
Е.Ш.: Она уже не прыгает. Это очень печально. Человек лучше собаки. Он в состоянии осмыслить свой опыт. Он в состоянии увидеть, что забора уже нет. Он в состоянии понять, в какой ситуации его прыжки, лай и кусание могут улучшить его жизнь. Но для этого ему нужно, конечно, выкинуть из головы представление о том, чтобы есть какие-то большие люди и есть какие-то малые люди. Нет ни карликов, ни великанов. Нет, вас в детстве обманули! Все люди приблизительно одного размера. Не все люди обладают равными ресурсами, но в пределах своей индивидуальной судьбы каждый человек может сделать много чего, особенно если он объединяется с другими людьми и действует совместно.
О.О.: Давайте возьмем несколько фактов из нашей актуальной политической повестки дня. И, может быть, вы попробуете показать, как комментарии настоящего политолога… "здорового политолога" и "политолога курильщика" выглядели бы в этом случае.
Повестка дня в научном сообществе - это диссертация с Мединским. Давайте подумаем. Владимира Мединского, министра культуры, его сначала экспертная комиссия ВАК решила, постановила все-таки лишить докторской степени, а теперь президиум ВАК оставил эту докторскую степень. Как это можно комментировать с двух точек зрения, если вы покажете?
Вторая вещь (сейчас сразу скажу) - это про Ксению Собчак, ее желание баллотироваться в президенты. Ее пока не зарегистрировали, но она уже хочет. Все-таки шанс такой есть.
Е.Ш.: Новости, которые просят прокомментировать, вообще хорошо разделяются все на три типа. Первое - это новость "дурак сказал глупость". "Дурак сказал глупость. Прокомментируйте, пожалуйста". А что тут комментировать? Непонятно. Второй тип новостей, по которым у тебя просят комментариев: "В связи со снижением доходов стало меньше денег. Прокомментируйте, пожалуйста". На это я обычно говорю: "Знаете, я не экономист". Ну и третье - новости погоды. "Выпавший снег оказался холодным. Каковы ваши комментарии?" Что тут комментировать - вообще на самом деле малопонятно.
При этом хочется, как товарищу Полыхаеву из "Золотого теленка", завести себе большую резиновую печать, даже три резиновые печати, на которых будут три универсальные комментария. Первое: "Это не имеет значения". Второе: "Не об этом надо думать". И третье: "Ничего такого не случится". Это ответ на комментарии, типа: "А правда, что… А вот как вы думаете, действительно ли скоро закроют все границы и у всех отберут паспорта?" Вот три: "Это не важно", "Думать надо не о том" и "Ничего этого не будет". Три универсальные комментария, которыми хочется ограничить все свои публичные появления.
Тем не менее, говоря о том, о чем говорите вы, смотрите. Каковы плохие признаки плохого комментатора? Он циклится на личностях. Он называет вам много фамилий. Он хвастается инсайдом. "Известно, что усиление группы Школова приводит к ослаблению группы Золотова", - и смотрит на вас загадочно. "Я точно знаю, что…".
Инсайд - некоторое проклятие нашей вообще политической среды. Сейчас меня очень радует, что оно размывается всеобщей информационной прозрачностью, Telegram-каналами, анонимными и псевдоанонимными, поскольку уже даже это не утечки, а уже это просто транспарентность, то есть все разговаривают со всеми и все рассказывают обо всем. И ценность этого инсайда очень сильно подвергается инфляции.
Третье - не просто ваш комментатор циклится на личностях, а он влезает в головы других людей и говорит: "Для нее это важно, потому что…", "Он хочет вот этого", "Наш президент вообще любит что-нибудь такое или не любит", "Вы же знаете, что он никогда что-нибудь…" или "Он всегда - да". То есть он вам рассказывает о каких-то психологических особенностях человека, которого он вообще знать не знает.
Что на самом деле, если в каком-то событии есть предмет для комментария, что может стать содержанием этого комментария? Не личности, а институты. Не новости, а процессы. Если вам говорят, рассказывая о каком-то явлении, о том же Мединском, говорят вам о том, почему у нас начальники стали все остепененными, как изменилась эта ситуация за последние годы и изменится ли она в ближайшее время, или не обязательно…
О.О.: Что означает то, что экспертный совет постановил лишить…
Е.Ш.: Что такое экспертный совет внутри ВАК, что такое президиум ВАК и как они соотносятся друг с другом. Вам должны рассказывать о какой-то институции: о ВАК, о научном сообществе, о Министерстве культуры, об экспертной комиссии, о президиуме, опять же в каких отношениях они между собой.
О.О.: О Министерстве науки и образования.
Е.Ш.: О Министерстве образования и науки. Вам должны дать хотя бы краткий какой-то исторический экскурс, только не уходящий опять же к Ивану Грозному, а в ближайшее прошлое. Вам должны привести какие-то другие примеры, как вот бывало: кого из начальников лишали степени, кто добровольно отказался. Были такие случаи? Были такие случаи. "Прокомментируйте, пожалуйста" - это не вопрос. Вам не нужно мое отношение. Вам не нужна моя эмоциональная оценка.
О.О.: "Мне нужно ваше знание".
Е.Ш.: Да, вам нужно мое знание. Поэтому вы спрашиваете: "А почему так? А что будет из этого? А ее зарегистрируют или нет? - если мы возвращаемся к Ксении Собчак. - Или не зарегистрируют? А вообще звезды шоу-бизнеса участвуют в выборах? И к чему это приводит? А это похоже на Трампа или это не похоже на Трампа?"
И дальше эксперт начинает вам долго и скучно говорить: "Нет, это не похоже на Трампа, потому что Трамп баллотировался в рамках двухпартийной системы, прошел праймериз в своей партии. А после этого уже их система выборов сводит двух кандидатов, не допуская никаких иных третьих и четвертых альтернатив. Соответственно, там совершенно другая динамика стекания голосов к этим двум фигурам. У нас нет ничего подобного, не бывает. Но тем не менее в странах с похожей избирательной системой медиафигуры тоже баллотируются с целью капитализировать свое имя, свой бренд как-то развить. Иногда они добиваются неожиданного успеха. Скажем, случай с Сильвио Берлускони - вот, казалось бы. Вот такое сходство, такое-то различие".
Компаративистика. Помним волшебное слово "компаративистика". Должно быть сравнение чего-то с чем-то. Вот это будет комментарий. Если вам говорят: "Да ну, это она просто, не знаю, пиарится", - и на этом все заканчивается, то это…
О.О.: "Она договорилась таким образом получить себе федеральный канал и вернуться в федеральный эфир".
Е.Ш.: Тоже версия. Вы знаете об этом? Вы присутствовали при этих договоренностях? Даже если это так, почему это важно? Те люди, которые будут наблюдать избирательную кампанию и, возможно, голосовать - им нет дела до того, кто получит какой федеральный канал. Зачем вы им это рассказываете? Расскажите им, каким образом они могут или не могут распорядиться своим голосом. Расскажите им, что такое, в принципе, бывало.
"Вот на прошлых выборах был Прохоров. Набрал он столько-то. Последствия это имело для него такие-то, для его избирателей - никаких. Поэтому логично предположить, что и тут последствия для кандидата будут такие-то и такие-то, если дело дойдет до регистрации и участия, что еще совершенно необязательно. А для избирателей - что они проголосовали, что не проголосовали - ничего не изменилось, потому что политическая повестка на следующие президентские сроки формируется иначе, а не по итогам избирательной кампании". Это будет некий сорт комментария.
Или другой сорт комментария: "Протестные настроения достаточно высоки. Раздражение и усталость от предсказуемых выборов, как показывают нам исследования, достигли некоего уровня, когда они могут вылиться в протестное голосование за эпатажного кандидата. Если эта цифра достигнет определенных порогов, таких-то и таких-то, то это будет некая реальность, с которой нельзя не считаться. Это окажет влияние на последующее поведение власти после выборов". Вот это пример экспертного комментария.
То есть мне всегда хочется, когда я читаю разные статьи публицистические, политологические, научные и околонаучные, мне всегда хочется, если бы я была преподавателем, дать такое задание: "А вот можешь ли ты, дорогой автор, переписать то же самое, только вычеркнуть все фамилии? Останется смысл в твоем сообщении? Если нет, то ты занимаешься сплетнями. Если да - значит, это и есть твое ядро, твоя научная… хорошо, не научная, а политико-философская идея".
О.О.: Итак, подведем итоги нашего сегодняшнего ликбеза. Мне кажется, он был очень полезен - и не только для журналистов, но вообще для любого телезрителя и слушателя, кто каждый день имеет счастье слушать политологов.
Е.Ш.: Опасайтесь простых прогнозов, линейных, основанных на продолжении сегодняшней тенденции вглубь: "Закручивают гайки? Значит, будут закручивать гайки и дальше, пока все не закрутят. Заасфальтировали полностью всю поляну? Значит, будут ее дальше асфальтировать вторым слоем". Это линейное мышление.
Упрощенные объяснения, вообще слова "все просто". Катастрофизм (это, пожалуй, разновидность простых и линейных прогнозов). Персонализация (о чем мы уже сказали). Конспирологические домики с надписью "Не вылезай - убьет!". Называние большого количества фамилий. Исторические аналогии, уходящие в туманные века. Презрение к компаративистике, то есть отрицание родства между сходными политическими режимами в разных концах мира. Отсутствие апелляции к данным. Фиксация на людях, а не на институтах и не на процессах. Вот плохие признаки плохого комментатора.
О.О.: Спасибо большое. У нас в программе была доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.
Как отличить настоящего ученого-политолога от политического спекулянта?
Екатерина Шульман - политолог, чьи труды по праву считаются одними из лучших в стране. Его острая позиция неоднократно вызывала шквал негативной реакции в свою сторону. Однако от этого ее популярность лишь росла, собирая все больше и больше поклонников.
И все же, что нам известно об этом человеке? Кто такая Екатерина Шульман? Каковы ее политические взгляды? И почему к ее мнению прислушиваются другие люди?
Екатерина Шульман: биография
Екатерина родилась в славном городе Туле в 1978 году. Школу окончила в этом же городе, после чего поступила в Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Именно здесь она освоила азы профессии политолога, что, собственно, и определило ее будущее.
Некоторое время Екатерина Шульман провела в Канаде. Здесь она досконально изучила английский язык, а также особенности западной культуры.
Ее первым местом работы стало Государственное управление общей политики в городе Туле. Здесь она провела три года, с 1996-го по 1999-й. После этого ей повезло стать сотрудником аппарата фракции. Так, в 1999 году она заняла должность эксперта Аналитического управления при Государственной думе РФ.
В 2007 году Екатерина Шульман сменила государственное учреждение на частную организацию. Она стала директором по исследованиям в компании PBN Company.
Начиная с 2013 года ее статьи начинают активно фигурировать в различных печатных изданиях. В частности, ее работы можно было увидеть в газете «Ведомости», а также на страницах интернет-порталов Colta и «Грани».
В последнее время она часто выступает в различных телевизионных шоу. В 2016 году Екатерина была особым гостем на программе «Особое мнение», что вещается на радиостанции «Эхо Москвы».

Почему стоит доверять ее мнению?
Начать следует с того, что Екатерина Шульман является квалифицированным специалистом, знающим свое дело. Свою профпригодность она доказала в 2013 году, когда успешно защитила кандидатскую работу на тему «Политические факторы и условия трансформации законодательного процесса на территории современной России».
Также она является доцентом кафедры государственного управления в Институте общественных наук при президенте Российской Федерации. Помимо этого, его научные работы нашли одобрение среди лучших умов России.
на мир
Екатерина Шульман смело высказывает свое мнение касательно того, что творится в стране и за ее пределами. В частности, она постоянно рассказывает о том, что сегодня в России установлена гибридная система власти. То есть она содержит в себе как признаки авторитаризма, так и демократии.
Также Шульман уверена в том, что большинство россиян неверно рассуждают о том, как построено западное общество. Особенно это касается тех вопросов, которые связаны с иностранной системой власти. Она уверена, что их свобода выбора - это действенный механизм, а не простая фикция, как мы привыкли считать.

Муж Екатерины Шульман
Как это ни удивительно, но муж Екатерины Михаил далек от политических баталий. По образованию он филолог, специалист по творчеству Набокова. Но в реальной жизни он борец за права простых граждан.
В последние годы Михаил Шульман пресекает незаконные захваты недвижимости различными рейдерскими конторами. А началось все с того, что один недобросовестный гражданин без весомого на то повода приватизировал чердак, который находился в распоряжении их дома.
С того момента война за право на жилье не прекращается ни на минуту. При этом семья Екатерины Шульман постоянно испытывает давление со стороны своих оппонентов. Доходило даже до того, что Михаила избивали прямо на улице, после чего он еще долго приходил в себя в местной больнице.
Однако Екатерина поддерживает стремление мужа. Более того, она старается ему всячески помочь, используя для этого всю глубину своих знаний.
Дмитрий Мазоренко, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Екатерина Шульман – кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте России. Автор книг «Законотворчество как политический процесс» и «Практическая политология: пособие по контакту с реальностью». Политолог регулярно выступает с публичными лекциями о состоянии внутренней политики России, эволюции политических режимов, общественных норм и возможных формах их трансформации в будущем. С сентября этого года ведёт авторскую передачу «Статус» на радиостанции Эхо Москвы.
В Казахстане люди с удовольствием отказываются от политического участия, даже когда для этого появляются небольшие лазейки. Им тяжело мобилизоваться и они делегируют все политические задачи в Астану. Сейчас в целом уместно говорить о патернализме или это какое-то советское, инерционное следствие, которое скрывает изменение формы участия?
О патернализме уместно говорить, потому что это реально существующее социальное явление. Это некий паттерн сознания, который влияет и определяет поведение людей. То, что вы назвали советским наследием - я не уверена, что это является именно им, хотя советская власть, конечно, очень сильно вытаптывала любые попытки независимой коммуникации, объединения и кооперации. Как у всякого тоталитарного режима, лексика советской власти была противоположна ее действиям – ничто так не репрессировалось, как две вещи: коллективной действие и публичное говорение. Вот эти два навыка, которые должны были быть истреблены. Публичное говорение заменялось ритуальными речами с предварительно подготовленным и строго согласованным текстом. Плакаты на демонстрациях также были согласованы. И вся публичная сфера была строго ритуализирована. Коллективное действие репрессировалось чрезвычайно жёстко, вне зависимости от его идеологической направленности. Невозможно было создать кружок по чтению Ленина, как невозможно было и создать террористическую ячейку – наказания за то и другое были приблизительно одинаковые. Соответственно, постсоветский человек вышел в мир с отсутствующими, не просто нулевыми, но отрицательными социальными навыками. Тем не менее, патернализм как таковой старше советской власти. Он вообще характерен для традиционных обществ. Традиционные общества – это, базово, общества аграрного уклада. Когда с социально-экономической точки зрения аграрный уклад уходит, то патернализм начинает подвергаться эрозии. Но постепенно, и для общественных процессов это может быть очень медленно. Я не знаю, какова именно ситуация в Казахстане.
Непрофессиональный взгляд на карту ценностей Инглхарта показывает, что мы более традиционное общество, чем Россия.
Но тут есть некий парадокс. На этой карте две оси: вертикальная отображает ценности традиционные и секулярно-рационалистические, а горизонтальная – ценности выживания и ценности самовыражения/развития. Если ваш социум более традиционный, то он будет и более коллективистским. Традиционное общество – общество антииндивидуализма. Это общество структур, это общество традиционных ролей. Структуры традиционного общества – это, в первую очередь, семья, и во вторую – община. В определённой степени, традиционные общества противоположны или даже враждебны государственной вертикали. Поэтому все тоталитарные проекты боролись с традиционализмом: с семьёй, с религиозными общинами и с сельскими общинами. Одновременно, эта общинность размывается и демократическим механизмом, который основан на общих правилах для всех. Поэтому в некоторой степени, нельзя сказать однозначно, что это низкое положение по шкале «традиционность» делает вас как “хуже”. Возможно, оно защищает вас от тоталитаризма. Это некая смягчающая подушка против железной руки государства. С другой стороны, конечно, делегирование ответственности начальству, и я сейчас не говорю только о государстве, вместе с гражданской пассивностью – это препятствие на пути развития, это понятно. Опять же, я не знаю какая ситуация у вас. В России я наблюдаю процесс, который забалтывается государственной пропагандой и не очень хорошо понимается самими гражданами, потому что люди не видят, что у них перед носом. Это вообще какая-то аберрация, видимо, непреодолимая. Для того и нужны люди, занимающиеся социальными науками – человек, находясь внутри социума и внутри социального процесса, не в состоянии его увидеть. Если только не происходит что-то революционное - тогда уже и дураку видно, что что-то происходит. Так вот: то, что можно назвать русским гражданским ренессансом, который начался у нас в середине 2000-х годов, и примерно с 2010-го приобрёл взрывной характер – это всё возрастающая активность общественных организаций, стремление людей к участию, новая связанность, драйвер которой в новых технологиях и социальных сетях. И это один из базовых социальных процессов, который проявляет себя в политическом действии, как только для этого есть возможности. Возможности могут быть разными: всевозможные местные выборы, избыточная активность начальства - посмотрите на то, что происходит сейчас в Москве, например, на, протест против реновации. Это довело ситуацию до того, что при всей выстроенности нашей системы контроля за выборами единственным надёжным инструментом влияния на их результаты остался запрет на допуск. То есть, если есть допуск хоть каких-то не провластных кандидатов или партий, то результат становится непредсказуемым. Это переход, который произошёл у нас некоторое время назад и который, как всегда, никто не заметил. Точнее, что значит - никто не заметил? Сами политические менеджеры заметили его хорошо. Они не формулируют это в таких терминах, они не понимают, что происходит. Но на практике они действуют ровно исходя из этого неформулируемого понимания: только недопуском мы можем контролировать процесс, иначе никак. Ни контролем над финансированием, ни над агитацией, ни над медийным пространством, ни даже полицейскими репрессиями и фальсификацией результатов. Только недопуск, только хардкор. Но я не знаю, как у вас. Тут лучше смотреть не на отдельный политический акт, в смысле – сколько людей вышло на митинг, мало вышло - общество пассивное. Это не так работает. А смотреть полезно на некоммерческие организации, благотворительность, сферу филантропии.
С этим всё достаточно сложно, но зарубежные организации у нас работают, хотя приходится им нелегко.
Что ещё может являться маркером? Как развивается сфера гуманитарной самодеятельности, появляются ли благотворительные организации, становится ли предметом общественного внимания те сферы, которые всегда были закрыты – детские дома, тюрьмы, интернаты для умственно отсталых. Другой хороший индикатор – что становится предметом публичного скандала, вокруг каких тем поднимается шум, даже в самой жёлтой прессе. Это как в фильме Men in Black, где они читали таблоиды, чтобы отслеживать своих клиентов – беглых инопланетян. Я всегда слежу за такими вещами. Полезно смотреть блокбастеры, чтобы понимать внешнюю политическую обстановку – с кем борется Первый мир, кого нынче объявили врагом человечества, какие угрозы осознаются и какие социальные нормы инсталлируются людям в голову. А для того, чтобы понять, что на уме у общества, смотрите на скандалы типа: чиновник переехал кого-нибудь на машине, кто-то за государственные или собственные деньги купил, скажем, золотой унитаз, или спит с известной певицей.
После распада СССР люди и сами ждали от себя большего политического участия, но этого не произошло. Исследование Европейского банка реконструкции и развития даже говорит об их разочаровании в либеральных идеалах, к которым они поначалу стремились. Почему это случилось, и почему так легко были сданы позиции?
Коммунистическая власть была гуманитарной катастрофой, и всё что произошло после – стало её последствиями. Как бы ни были тяжелы годы после неё, избавление было благом и счастьем. По историческим меркам это произошло мирно и не так болезненно как могло бы - империи распадаются гораздо хуже и кровавее. Что касается сданных позиций, я не знаю, как это было у вас, но в случае с Россией я бы не прочерчивала некую прямую линию от высот участия и либерализма в 90-е до глубин пассивности и авторитарности сейчас. Социально-политический процесс шёл не так. Ещё раз повторю свой тезис про отрицательные политические навыки постсоветского человека: ранние 90-е годы были годами большой общественно-политической активности, но эта активность была ужасно неумелой, рандомной, хаотичной. Люди не виноваты в этом, это последнее, в чём они виноваты. Но, понимаете, с тех пор мы привыкли возлагать надежды на то, что миллион выйдет на улицу, и обвинять миллион в том, что он этого не сделал. Но выход на улицу – это ужасно примитивная форма общественной деятельности. Она, вообще-то говоря, сама по себе никогда ни к чему не приводит. Власть не меняется после митинга. Митинг призван просто продемонстрировать то, как нас много. Это не действие, это именно что демонстрация. Для России все прошедшие годы я бы назвала непрерывным процессом обучения социальности. То, что какие-то ловкие люди захватили ресурсы, пока общество училось, и с тех пор не хотят с ними расставаться, это, может быть, было неизбежно.
Когда говорят о разочаровании в либерализме, имеют в виду какой-то странный набор слов, который наверняка появлялся в медиа сначала с одной оценкой, а потом – с другой. Это ничего не значит. Русский человек вообще природный либертарианец, только никогда не признается себе в этом – он индивидуалист, он консьюмерист, он не верит институтам и доверяет только знакомым. Он не верит в навязанные правила и считает, что сам должен их себе устанавливать.
Почему в наших странах закрепилась и сохраняется персоналистская власть - это очень странное явление в условиях коллективизма и неприятия индивидуализма?
Мы здесь говорим о двух вещах: о персонификации власти как о восприятии – о том, что имеется в сознании людей, и о персонификации власти как о политическом институте, о персоналистском правлении. Их нужно различать. Персонификация как восприятие - это, наверно, неизбежное свойство человеческой природы. Люди – социальные существа, и прежде всего мы настроены друг на друга. Известно, что младенцы дольше задерживают взгляд на человеческом лице, чем даже на погремушке. Наш мозг устроен так, что больше всего мы видим и внимательно наблюдаем за лицами людей, замечая мельчайшие изменения в мимике, какие мы не видим в других объектах. Поэтому люди всегда будут хотеть наклеить бирку с именем и лицом на любое явление бытия. Даже законы природы у нас носят имена Ломоносова и Лавуазье, эпохи называются именами политических лидеров – это естественно. Поэтому люди предпочитают изучать историю, читая биографии великих людей. Нельзя сказать, что это какая-то специальная авторитарная штука, или какое-то специальное явление, характерное для отсталых стран, заражённых патернализмом. Это не всегда так.
Более того, сейчас в политической науке есть мнение, что эта новая медийность и переход всех ранее скрытых политических процессов в публичное поле приведёт, возможно, к новой персонализации. Потому что люди хотят знакомого человека, и такой политический лидер становится обвешан многочисленными ожиданиями, и в этом смысле представляет большую ценность, чем раньше - как раскрученный бренд. Грубо говоря, политические лидеры становятся такими актёрами, без которых снимать сериал уже затруднительно. А поскольку нужно снимать сериал и иметь зрителей, чтобы они за тебя проголосовали, то это может привести к парадоксальной вещи – более длительному пребыванию людей на посту, в том числе и в Первом мире. В качестве такого примера называют Ангелу Меркель. Понятно, что политическая система Германии совершенно иначе устроена, чем у президентских республик, канцлер там не обладает всей полнотой власти. Ею никто не обладает - в чем, собственно, и состоит смысл системы сдержек и противовесов. Понятно, что её долговременное пребывание на посту совершенно не мешает ротации и обновлению властного механизма. Но эта брендизация политики, видимо, действительно происходит, хотя ее можно рассматривать как персонализацию на новом техническом уровне, а персонализация, как мы с вами только что сказали, существовала всегда. Но она не будет приводить к тому, что каждый, кто попал во власть, будет сидеть там по 50 лет. Потому что тот же запрос приводит к появлению новых людей – какого-нибудь условного Макрона. Или молодой женщины, которая стала премьер-министром Новой Зеландии. Или другой молодой женщины, которая возглавила правительство Исландии. Новые лица так же нужны, как какие-то привычные актёры. Поэтому, эта самая новая публичность не приведёт к застыванию политической сцены. Я думаю, это было бы противоестественно.
Но вопрос в том, каковы при этом ваши политические институты. Насколько они в состоянии функционировать вне этого медийного контекста. То, что мы видим в США, - это, вопреки всем разговорам, пример довольно завидный. Пример того, как неожиданный человек стал президентом, а машина работает без него. Его попытки куда-то влезть обычно к добру не приводят: раз за разом его вышвыривает из этого механизма, куда он пытается сунуть палец. А провести он может только те меры, которые являются плодом межпартийного и внутрипартийного консенсуса. Это пример того, как медийная персонификация сочетается со здоровыми институтами – хорошо сочетается. Лучше, чем с их отсутствием. Потому что одна из базовых проблем демократии – как предохраниться от захвата власти тем, кто, придя к власти, отменит демократические институты.
Собственно, эту проблему сформулировал еще Аристотель в своей Политике: богатый и известный человек, условный Аристид или условный Трамп, он будет иметь большие шансы на выигрыш, а выиграв, узурпирует институты, он привяжет все механизмы к своей руке. Но обычно ссылаются на Гитлера, «пришедшего к власти демократическим путем». Только он не приходил к власти демократическим путём: он воспользовался демократическими институтами, чтобы встать на первую ступеньку власти, которую он приобрёл прямым насилием. Выгнать часть депутатов из парламента и распределить их мандаты между собой – это не демократический способ прихода к власти. Каково решение «основной проблемы демократии»? Распределение власти. Демократия - это, прежде всего, про сдержки и противовесы. И институты, работающие автономно друг от друга и перекрёстно контролирующие друг друга.

А если говорить именно про персоналистские автократии?
Персоналистские автократии – почтенная разновидность недемократических режимов, среди них они занимают видное место. У автократий есть несколько разновидностей – есть партийная автократия, есть военная автократия, есть персоналистские автократии, а некоторые учёные упоминают ещё о традиционных автократиях, с традиционным типом легитимации - проще говоря, монархиях. Персоналистские автократии живут достаточно долго – их средний срок жизни около 16 лет, после чего с ними начинаются трансформационные процессы. Они хуже всего переживают транзит власти. Если бы этот секрет, если бы эту головоломку кто-то разгадал, то автократии жили бы вечно и выиграли у демократии историческое соревнование. Но этого не происходит.
Более того, автократии демократизируются. Они вынуждены принимать демократический облик, потому что это требование времени. Если хотите, мода такая - только это не шутки, мода – это серьёзно. Это манифестация изменившегося социального запроса. То, что считается приличным и необходимым, и все это делают, означает общественную трансформацию и изменение нормы. Уже мало кто может позволить себе старую добрую авторитарную модель, в которой будет одна партия, один несменяемый лидер, отсутствие парламента, а законы сам напишу. Множество научных статей написано о том, зачем автократиям легислатуры, зачем им нужен парламент? Зачем автократии проводят выборы, которые всегда для них опасны? Не в смысле, что они проиграют, хотя и такое случается: опрокидывающие выборы – вполне реальное явление, когда всё было замечательно и предсказуемо, а потом, вдруг, в голове у избирателя щёлкнуло, что голосование всё-таки тайное и кабинка закрытая, после чего люди взяли бюллетень и нарисовали неожиданное.
Но даже с предсказуемым и гарантированным результатом выборы для автократии нервный и турбулентный период, как мы видим это на примере России прямо сейчас. Элитная конкуренция активизируется, все конфликты обостряются, кланы и группы интересов начинают жрать друг друга с удвоенной силой. Требуются особые вливания в регионы, чтобы люди там сидели смирно и демонстрировали довольство, а не, наоборот, протест. С одной стороны, таким режимам хочется развить репрессивную активность, потому что они чувствуют опасность от всей этой движухи, с другой стороны – нельзя, потому что людей вроде как нужно, наоборот, задабривать.
Кстати, всегда обращайте внимание на такую вещь: перед выборами любая автократия, какой бы она не была, хочет понравиться. Ей нужно делать что-то, чтобы показаться людям хорошей. Обычно автократиям трудно узнать, что на самом деле людям нравится, поскольку эти режимы герметизируются и изолируют себя от социума. Всем была бы хороша персоналистская авторитарная модель, если бы она могла остановить время, но она, к сожалению, этого не может. Дальше начинается проблема. Именно поэтому по статистике существование персоналистских автократий среди всех остальных видов авторитарных режимов наиболее часто заканчивается насилием. Справедливости ради скажем, что мы видели ненасильственные примеры передачи власти в них – Узбекистан, скажем. Там, конечно, наследную принцессу не то убили, не то заперди в квартире и заставляют платить за еду, совсем без жертв не обошлось. Но массовой резни не случилось, более-менее всё прошло по-вегетариански. Туркменистан – олдскульная автократия без заморочек, одна из немногих оставшихся в таком чистом жанре – там тоже группы интересов смогли договориться после смерти Ниязова.
Тем не менее, в большинстве случаев, если вы не были беспримесно авторитарны, изолированы, и у вас были какие-то связи с миром, то транзит власти для вас будет нервным периодом. Довольно частый сценарий трансформации персоналистских автократий – это захват власти военными, которые, в свою очередь, передают власть уже новому выбранному лидеру. Как ни странно, так называемые хунты - то есть военный автократии - меньше всего живут (7 лет в среднем) и наиболее склонны заканчивать свою жизнь демократизацией. Посмотрим сейчас, кстати, на Зимбабве.
Партийные автократии почти бессмертны, они живут сколько угодно долго. Не в китайском масштабе, возможно, но в Мексике похожая история. Кстати, не так давно, после некоторого перерыва, там опять избрали представителя партии, который подавил у них гибридный авторитаризм. И он начал курс реформ, вполне себе либеральных.
Интересно, что при общемировой любви к Китаю, никто не пытается перенять его политическую модель. Она совершенно уникальна. Китайская система позволяет им цикл за циклом проводить ротацию, проводить обновление правящего класса. Ещё одним инструментом ротации в Китае являются расстрелы, без этого тоже никуда. Китай в какой-то мере позаимствовал свою модель отдельные элементы у Советского союза, но всё равно, по сравнению с их внутрипартийной ротацией и системой рекрутинга кадров все практики КПСС были детским лепетом.
И всё же, почему автократические режимы оставляют чёрный ход для демократизации и прямо не заявляют о своей природе?
В науке есть несколько версий на этот счёт, которые уместнее было бы назвать причинами, поскольку каждая из них описывает какой-то кусочек реальности и имеет право на существование. Первое объяснение: это делается для виду, это чистая декорация, которая необходима, чтобы производить впечатление и соответствовать нормам внешней аудитории, если страна желает получать кредиты и участвовать в международном товарном обмене. Кроме того, это делается для того, чтобы производить впечатление на своё собственное население, поскольку даже в экономически неудачливых странах люди как-то почувствовали, что между наличием выборов и наличием айфонов и разнообразием еды есть какая-то связь. В начале 90-х годов был принят титул 22 Кодекса США, согласно которому финансовая помощь стране, где законная власть смещена силовым путем, не оказывается, пока там не проведены общенациональные выборы. Той же нормы придерживается и ЕС. После этого заговорщики всего мира, скинув своего Юлия Цезаря, срочно проводят выборы, если они хотят получать международную помощь. А обычно перевороты такого рода случаются в бедных странах, и они рассчитывают на международное содействие.
Второе объяснение: теория кооптации. Она говорит о том, что наличие легальных политических процессов, наличие альтернативных партий, выборов и подконтрольного, но функционирующего парламента, позволяет режиму кооптировать, то есть включать в себя, те силы, которые могли бы быть ему оппозиционны. То есть превращать оппозиционеров в соучастников. Это делает режим более устойчивым.
Это уже более интересное объяснение, потому что оно подводит нас к третьему – к так называемой теории административной биржи. Там речь идёт о том, что эти коллективные органы, которые, казалось бы, ничего не решают, по своей природе являются всегда более открытыми площадками, чем любые другие, и позволяет группам интересов договариваться и взаимодействовать. Там всё-таки торгуется некая административная валюта.
Точно так же и выборы можно рассматривать, как сорт административной биржи. Выборный период - время, когда региональные власти должны доказать, что они контролируют ситуацию на своей территории, соответственно, региональная власть может меняться перед выборами с тех, кто недостаточно надёжный, на тех, кто рассматривается как способный эти выборы провести прилично и без ярковыраженных скандалов и массового возмущения. Кроме того, выборы предполагают декларацию каких-то программ и намерений. Соответственно, это возможность устроить не только ярмарку вакансий, но и ярмарку проектов.
Казалось бы, это всего лишь соревнование за доступ к уху основного кандидата, но на самом деле – нет. На самом деле, это попытка для политической системы понять, что у людей на уме: что бы такого сделать, чтобы ничего не делать, или как бы нам так измениться, чтобы остаться прежними. Ну и известно, что чем больше политических институтов демократии ты симулируешь, тем устойчивее ты становишься. Одновременно, тем легче и быстрее твой путь к демократизации, как только для этого у тебя появятся необходимые условия. Какие это условия? Обычно считается, что это экономический кризис, но напрямую от бедности (ка ки от богатства) демократия не заводится. Главное из условий - изменение общественного запроса, когда общество достигает некоторого уровня развития, при котором начинает хотеть участия в процессе принятия решений, всё меньше готово делегировать, и всё больше хочет контролировать.

Почему население постсоветских стран питает антипатию к демократическим институтам, считая их проявлением западничества? И насколько устойчива эта антипатия?
Прелесть демократических институтов в том, что в них нет ничего специфически западного или американского. Они адаптируются к любому укладу и любому типу культурного и общественного устройства. Не нужно считать, что это некая высота, которую нужно взять, а иначе ты проиграл. Я бы сравнила это с понятием “достаточно хороший родитель” - не надо стремиться быть идеальным родителем, только загонишь себя в невроз. Но надо быть достаточно хорошим функциональным родителем, справляющимся со своими обязанностями и не травмирующим детей. Так и с системами управления. Ты достаточно хорошая демократия, если у тебя есть механизмы сменяемости власти, элементы свободы слова, политической конкуренции и гражданского контроля над административными институтами – это уже много. Посмотрим на Монголию, где проходят конкурентные президентские выборы, посмотрим на Южную Корею, которая, несмотря на богатейшие коррупционные традиции, как-то ограничивает их, если мы посмотрим на ряд вполне бедных африканских стран (Ботсвана, Гана или Лесото), которые, тем не менее, являются мирными и вполне работоспособными демократиями - мы видим, что для этого не нужно быть ни слишком богатым, ни каким-то очень сильно западным. Поэтому сказать, что на постсоветском пространстве существует какая-то непереносимость демократии, как бывает непереносимость лактозы, нельзя. Есть пропаганда, которая определённые слова сперва навязывает, а потом ассоциирует с чем-то неприятным. Поэтому в результатах многочисленных социологических опросов люди в значительной степени повторяют то, что они слышат по телевизору. Это, на самом деле, мало о чём говорит.
Да, есть исследования, которые связывают наклонность к авторитаризму в политике с ресурсной зависимостью в экономике – то, что называется петрогосударствами. Но в то же время мы видим вполне ресурсные страны, которые не скатываются ни к какому авторитаризму. Самый известный пример – это Норвегия. Поэтому сложно сказать, не является ли нефтяное проклятие, которое сразу все страны делает диктатурами разной степени жёсткости, медийным мифом. Да, лучше иметь диверсифицированную экономику, чем монополистическую - это очевидно. Но сами по себе ресурсы никого не делают автократом. Поэтому в родовые проклятия я не верю. Постсоветское пространство – большое, и разнообразие политических режимов в нём тоже достаточно широкое.
А существуют ли у абсентеизма какие-либо видимые границы?
Абсентеизм, если брать его узкое значение неучастия населения в выборах, это вещь, как показывают данные, во многом культурно обусловленная. Например, в Европе явка традиционно выше, чем в США. Причём даже на тех выборах, где нет интриги, нет новых, неожиданных кандидатов или партий - что, как считается, способствует повышению явки. Интриги нет, явка есть. На выборах в США интрига в 2016 году была, а явка была при этом низкой.
Каковы факторы, влияющие на явку? Во-первых, непредсказуемость результата, во-вторых - отсутствие слишком высокой цены голосования. Скажем, если погода хорошая и до избирательных участков легко дойти, то люди придут с большей вероятностью, чем если будет лить дождь и участки будут находиться далеко, или при входе на участки их будут бить. Но третий очень значимый фактор – это традиция, политическая культура. Если люди в принципе привыкли ходить на выборы, то они будут ходить, даже если не очень понятно, в чём большая выгода от их присутствия. Люди охотнее пойдут, если им кажется, что своим присутствием они могут изменить ситуацию. Это, условно говоря, сценарий муниципальных выборов в Москве, когда явка была низкой, но пришёл мотивированный электорат, который вдруг понял, что несколькими сотнями голосов они сделают себе новых депутатов. Ещё люди приходят, чтобы присоединиться к победителю: да, кандидат выиграет и без меня, но я хочу как-то подержаться за эту неизбежную победу. Люди приходят и тогда, когда есть противоположный кандидат, который вызывает очень большое отвращение – схема голосования «кто угодно, только не Х». Разнообразие сценариев большое. А не любят люди приходить тогда, когда им кажется, что от них совсем ничего не зависит. Когда неизбежно побеждающий кандидат не нуждается в электорате ни в какой форме, даже в качестве моральной поддержки. Это и есть сценарий постсоветского абсентеизма, если он как явление в принципе существует. Но есть ещё один фактор, который очень важен и который я вижу в России: абсентеизм как форма протестного поведения. Если нет графы против всех, если нет кандидата, за которого можно проголосовать, чтобы показать, как человеку все надоели, то люди не приходят.
Что, в таком случае, влияет на общее политическое участие?
Участие – это проблема не только недемократий, но и демократий, даже старых и развитых. Иногда она соединяется с проблемой, которую называют кризисом партийной системы или кризисом парламентаризма и репрезентативных институтов. Вообще, коллективные органы всегда пользуются меньшим уровнем доверия, чем индивидуальная власть. Это не очень справедливо, это такой рудимент старого сознания, которое любит персонификацию, то есть конкретного человека, на которого навешиваются и надежды, и разочарования. Коллективный орган воспринимается как нечто неэффективное, нерабочее, как место, где одна болтовня. В реальности в любых работающих демократиях все изменения и вся реальная работа осуществляется как раз коллективными органами – всевозможными рабочими группами, советами и аппаратами, а не одним героем, который пришёл, помахал мечом и всё исправил. Это всё сказки для массмедиа.
Возвращаясь к вопросу про участие: как его активизировать или как оно само увеличивается? С одной стороны, люди активизируются, когда речь идёт о том, что касается их непосредственно. Пример этого – реновация в Москве, великий активатор гражданской активности. Вся эта затея не то чтобы пробудила всё гражданское общество Москвы, оно и не спало, но рывком подняло его на следующий уровень развития. Потому что её непосредственным следствием стала московская муниципальная кампания, удивительные результаты, смысл и значимость которой ещё не поняты до конца. Люди встрепенулись, когда поняли, что пожар уже подходит к стене их дома.
Оживление вызывает и то, что можно условно назвать «схемой Навального», когда люди видят альтернативные предложения и какую-то новую картину завтра, которая прежде была им не доступна. Насколько можно понять по исследованиям Российской академии наук о запросе на перемены, с 2003 года не было такого количества опрошенных, которые говорят о необходимости изменений, а не о ценности стабильности. В случае России столбовым направлением государственной пропаганды все эти годы было примитивное «лишь бы не было войны». Происходило постоянное напоминание о 90-х, одновременно с созданием легенды о них и навязывании людям представлений о том, каким было то время. При всём уважении к нашим так называемым «реальным воспоминаниям», они формируются – человеку говорится, каким было его прошлое, каким был он сам, и он действительно начинает воспринимать эту картину как свою собственную. На этот счёт есть множество грустных психологических исследований. Людям кажется, что они что-то помнят, что с ними такое действительно было, когда на самом деле они пересказывают чуть ли не сцены из фильмов в качестве собственных воспоминаний. Это не в упрёк никому будет сказано - наше сознание так устроено, наши представления о себе - это социальный конструкт. Подобная картина 90-х продолжает формироваться до сих пор, а для контраста одновременно с ней транслируется картина счастья и стабильности, которую принесла действующая власть. Но всё это работает только до определённого момента. С подрастанием поколения, которое этим ужасом не до такой степени индоктринировано, появляется запрос на изменения. Он перевешивает запрос на стабильность пока ещё не очень сильно, но символическая отметка в 51%, если верить исследованию РАН, уже достигнута.
Сергей Медведев: Прав ли был Маркс, когда говорил, что базис, экономические основы общества, производительные силы и производственные отношения рано или поздно меняют надстройку? Глядя на современное российское общество, начинаешь в этом сомневаться. Общество в большой своей части уже находится в новом технологическом укладе, в сетевом обществе, стоит на пороге четвертой промышленной революции , а политические отношения – в совершенно архаичном состоянии и, кажется, еще больше откатываются назад. Так ли это? Эту тему мы обсудим с политологом Екатериной Шульман . Это один из немногих экспертов, которого я могу с гордостью назвать политологом, потому что в целом это название себя дискредитировало.
Недавно в лектории "Прямая речь" у вас была очень интересная лекция под названием "Будущее семьи, частной собственности и государства – переиначивая Энгельса" – вот откуда взялась эта марксистская тема в начале.
Энгельса я люблю больше, чем Маркса: он, по крайней мере, жил за свои деньги. Сама эта статья – "Происхождение семьи, частной собственности и государства" – всегда казалась мне очень внятным изложением того, что происходило с человечеством на его заре. Что касается базиса и надстройки, конечно, вульгаризированный марксизм, оставшийся в мозгах советских людей, которым все это преподавали в средней и высшей школе, – это одно из самых больших зол наших дней.
Тезис о базисе и надстройке понимается в том смысле, что деньги определяют все, что главное экономика, а все остальное на ней надстраивается
Мы сейчас не будем углубляться в претензии Марксу как таковому, но именно к этой его версии (советской, оставшейся в головах у людей) много претензий, потому что оттуда восприняты какие-то совсем линейные вещи в духе вульгарного материализма. Тезис о базисе и надстройке понимается в том смысле, что деньги определяют все, что главное экономика, а все остальное на ней надстраивается. Причем экономика понимается не как система отношений, каковой она является, а примитивно, сугубо как деньги. Понятие о капитализме тоже заимствовано из каких-то обрывочных цитат из классиков марксизма-ленинизма, типа "нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли". В головах бывших комсомольцев все эти идеи, к сожалению, цветут пышным цветом и дают совершенно не тот плод, какого хотелось бы.
Сергей Медведев: Меня интересует, как в связи с экономическими изменениями будет меняться структура государства, структура государственного суверенитета, которая с нами лет 350-400, если считать с Вестфальского мира ?
Мы воспринимаем как данность и единственную возможную реальность то, что сформировалось в конкретных исторических условиях, а другие конкретные исторические условия могут сформировать совершенно другую реальность. Мы с вами принимаем за единицу мироустройства централизованное национальное государство.
Я хочу напомнить, что так было не всегда. Нынешние национальные государства, наследники абсолютистских монархий Европы, которые в свое время выиграли историческое соревнование, победили в исторической конкуренции и показали более высокие результаты, чем разнообразные альтернативные модели, – вот они, собственно говоря, и унаследовали землю.
Наши понятия о том, что большое – это эффективное, что централизация – это скорее хорошо, чем плохо, что долгосрочное планирование – это тоже здорово и правильно, государство образуется нациями, нация есть политическая единица, – я не говорю, что все это ошибочные иллюзии или суеверия, это просто определенный исторический этап.
Возможно, мы постепенно переходим в другой исторический этап
Возможно, мы постепенно переходим в другой исторический этап. Это может происходить силами двух процессов: во-первых, глобализации, которая эту единицу (национальное государство) делает во многом устаревшей по ряду параметров. Более высокая мобильность – как людская, так и мобильность информации и товаров, собственно говоря, может сделать излишним, слишком дорогим и неэффективным по сравнению с возможностями новой мобильности все то, что является скорлупкой национального государства: границы, налоговую систему, финансовую систему, национальные валюты, национальные системы законодательства.
Часть этого процесса – и то, что у нас называется информационным обществом, и вот этой загадочной постресурсной экономикой, которую нам должна принести четвертая промышленная революция. Это все пока еще довольно туманные вещи. Они кажутся такими туманными, потому что люди, занимающиеся науками об обществе, не очень хорошо понимают, какова эта новая информационная и экономическая реальность, а люди, занимающиеся информационными технологиями, во-первых, не умеют понятным образом объяснять, что это такое, а во-вторых, не мыслят категориями, которыми мыслят общественные науки. Они могут рассказать про свой биткоин, про свой блокчейн , но они не понимают, что это значит для социума, для политической системы, для баланса власти. А тем, кто понимает в этом, трудно вникнуть в то, что такое интернет вещей , чем он отличается от интернета овощей, почему именно это должно радикально менять мир. Поэтому мы, как положено в разных отраслях знания, ощупываем слона каждый со своего конца.
Тем не менее из того, что сейчас видно, вырисовывается некая картина. Хочу заранее предупредить, что вырисовывающаяся картина кажется максимально противоположной тому актуальному новостному фону, в котором мы изо дня в день живем. Этому тоже есть вполне марксистское объяснение. Как говорил Маркс, если общество задается вопросом, значит, ответ на него уже найден. Если какая-то политическая форма особенно активно себя проявляет, то очень может быть, что она проявляет себя потому, что является уходящей.
Может показаться, что сейчас самый актуальный вопрос в мировой политике – это вопрос суверенитета
Вот эти проблемы прошлого века, вчерашние проблемы вспыхивают особо ярким пламенем. Может показаться, что сейчас самый актуальный вопрос в мировой политике – это вопрос суверенитета. Это новая религия всех новых правых в Европе, это во многом и религия Трампа.
Сергей Медведев: Может быть, это реакция на глобализацию, на блокчейн, на четвертую промышленную революцию, на безработицу "белых воротничков"? Идет новая волна суверенитетов, во главе которой на белом коне – товарищ Путин, говорящий, что надо давать клятву.
Или товарищ Трамп. Это еще надо посмотреть, у кого конь белее. Да, я считаю, что это естественная реакция. Более того, я всем предлагаю порадоваться тому, что в нашу эпоху на таком крутом вираже исторических перемен эта реакция имеет такую форму, то есть кто-то где-то выиграл на выборах – не один, а другой кандидат.
Мы называем это шоком, потрясением, революцией, опасностью для либеральной демократии, а на самом деле это все детские сказки по сравнению с тем, что происходило в предыдущих промышленных революциях, на предыдущих исторических этапах. Такого рода изменения обычно сопровождаются массовым кровопролитием, мировыми войнами, очень серьезными насильственными изменениями внутри социумов, стран. В прошлые разы все это прошло гораздо менее мирно. Слава богу, что сейчас это все на уровне какой-то политической болтовни. Но если это действительно реакция, если мы, общественные науки, правы в своих наблюдениях, то это уходящая волна, которой надо дать себя проявить, потому что люди имеют право быть недовольными темпом перемен: их образ жизни и уклад действительно находятся под угрозой, и они имеют право на то, чтобы проявлять свой протест таким образом, выбирая тех лидеров и те партии, которые, как им кажется, помогут оттянуть часовую стрелку назад.
При этом мы помним про себя, что это в принципе невозможно, то есть, видимо, нельзя как-то радикально изменить ход истории. Даже я сомневаюсь, что возможно его замедлить. Но можно как-то смягчить резкость этого поворота. Может быть, оно и к лучшему, может быть, потом, оглядываясь назад, мы скажем, что роль новых консерваторов и каких-нибудь сторонников Брекзита в Великобритании была скорее позитивной, чем негативной. То есть мы можем их рассматривать не как людей, которые цепляются за колеса поезда прогресса и не дают ему ехать: может быть, они, слегка затормозив время, действительно сделали этот вираж не таким головокружительным и не таким болезненным для вестибулярного аппарата народов.
Сейчас левый и правый популизм – как лихорадка при прививке
Сергей Медведев: Сейчас левый и правый популизм – как лихорадка при прививке.
Можно сказать и так. Честно говоря, я пока не вижу от них большого и радикального вреда, я не особенно сочувствую этому тотальному ужасанию, поскольку не вижу, чему именно ужасаться. Если мы считаем, что суверенитет национальных государств будет растворяться в крепкой кислоте глобализации (что, собственно говоря, уже и происходит, и реакция объясняется именно тем, что это происходит), то возможно, что организационные формы общемирового порядка будут, как сейчас часто говорят, разделяться на два уровня. На верхнем уровне будет система межгосударственных союзов типа Евросоюза, новая империя Габсбургов, как говорят конспирологи, типа тех тихоокеанских партнерств, которые заводил Обама, из которых сейчас выходит его преемник.
Тем не менее все равно китайский ШОС, наш Евразийский союз, такого рода межгосударственные объединения – это же не Антанта, не договор о сердечной дружбе, это, прежде всего, экономические союзы. Их смысл – упрощение торгового оборота, усиление той самой мобильности, которая и растворяет скорлупки национальных государств, выедает из них кальций, делавший их крепкими.
Второй этаж – это уровень городов и городских агломераций. Это очень популярная сейчас тема в общественных науках. Я не буду утверждать, что я все про это понимаю, но смысл следующий: процессы урбанизации продолжаются, то есть трудовые, финансовые, экономические ресурсы действительно концентрируются в городах и на территориях, которые обслуживают город.
Сергей Медведев: Историк во мне говорит, что когда-то мы это уже проходили: в период позднего средневековья, когда были большие независимые города, и в то же время существовала священная Римская империя, то есть это догосударственный период, большие города и большие транснациональные торговые союзы.
Христианский мир или большая Золотая Орда – это тоже не было единое государство в нашем понимании
Христианский мир или большая Золотая Орда – это тоже не было единое государство в нашем понимании. Была знаменитая фраза, что в империи Чингисхана девушка с золотым блюдом на голове могла пройти от Пекина чуть ли не до Бухареста, и никто ее не трогал. Смысл тоже был в том, чтобы обеспечить безопасное пространство для перемещения людей и товаров. Все, в конечном счете, сводится к этому. Вообще, очень забавно, какое количество черт уже наступившего и наступающего нового времени, нашего с вами будущего повторяют на новом техническом уровне практики высокого средневековья. Это поразительно! Хочешь узнать, что будет, – посмотри на то, что было до XVII века.
Сергей Медведев: Сорокин об этом и пишет в "Теллурии" .
Это, конечно, богатый материал для антиутопий, потому что для нас средневековье – это фильм Германа "Трудно быть Богом". Давайте не зацикливаться на деталях, у нас уже есть антибиотики, водопровод и канализация, поэтому совсем туда мы не скатимся.
Мы воспринимаем период абсолютизма как период наступления прогресса. А по ряду параметров относительно той же самой свободы перемещения, относительно возможности для человека убежать от своего суверена и жить своей жизнью, может быть, это как раз был шаг назад, в закрепощение. Между прочим, этот период принес всему миру крепостное право на новом уровне, когда вилланов и сервов уже давным-давно позабыли, люди были свободными, и вдруг опять пришло большое государство и рекрутировало всех в большую армию, на большие производства и на принудительный крестьянский труд. Так что не будем абсолютизировать просвещенный абсолютизм: было в нем свое хорошее, было в нем и свое плохое.
Мы воспринимаем период абсолютизма как период наступления прогресса
Действительно, практики высокого средневековья (начиная от цеховых объединений, которые суть саморегулируемые организации), культ ручного труда, новый культ семьи, новая роль связей, атомизация ХХ века сменяются связанностью всех со всеми, только вместо родной деревни и посада, который был у средневекового человека, у нас есть родная социальная сеть, родной "Фейсбук" или родные "Одноклассники". Здесь какая-то другая роль религии, может быть, объясняющаяся тем, что у людей появилось больше свободного времени, и они стали задумываться о своей духовной жизни.
Что еще принесла позапрошлая промышленная революция в централизованные государства – люди стали гораздо больше работать. Позднесредневековый человек, если он не был крестьянином, то не ходил на работу к девяти утра, его жизнь была гораздо более вольной, с нашей точки зрения.
Сергей Медведев: Маркс тоже пишет об этом: они работали столько, сколько им было необходимо для натурального воспроизводства и небольшого натурального обмена.
Вот вам жизнь гражданина с гарантированным гражданским доходом.
Сергей Медведев: Встает еще один вопрос: что будет с демократией в эпоху гарантированного минимального дохода? Люди перестают быть налогоплательщиками: ты не работаешь, а государство дает тебе денежку.
А налоги будут платить роботизированные производства, создающие, в свою очередь, другие роботизированные производства.
Сергей Медведев: Налог, видимо, будет только с потребления.
Сейчас пока надеются на то, что налоги будут платить владельцы этих автоматизированных производств, которые уже будут продуцировать сами себя, они будут основными объектами налогообложения. Это вопрос уже напрямую к политической науке: каким будет политическое поведение, какой будет репрезентативная демократия, не возникнет ли внезапно новый социализм, состоящий из этого государства, кормящего бесконечные орды вечных пенсионеров.
В нефтяные годы Россия была социумом псевдозанятости
Мы, Российская Федерация, может быть, немножко показали миру, на что это похоже, потому что в нефтяные годы мы были социумом псевдозанятости. Во многом мы остаемся им и сейчас, потому что за эти годы государство раскормило огромный класс бюджетников – не учителей и врачей, а госслужащих, чиновников, сотрудников контролирующих и проверяющих организаций, бесконечные толпы силовиков. Мы превосходим все страны мира с очень большим перехлестом: в два раза больше, чем в Германии, на треть больше, чем в Китае (в процентном соотношении). Соответственно, у нас огромная армия этих людей, которые ничего не производят, чья деятельность носит условный характер, они типа "берегут нашу безопасность".
Опять же, к вопросу о высоком средневековье… Помните, у Рабле в "Гаргантюа и Пантагрюэле" есть рассуждение о том, что солдат воюет, купец торгует, крестьянин пашет, а монах что делает? А он молится за наши грехи. Вот правоохранитель охраняет, стережет нашу безопасность, молится за наши грехи нарушения безопасности, а мы все за это его кормим. Такая не очень веселая социально-политическая картина с соответствующим политическим поведением, очень хорошо нам знакомым, поскольку понятно, как эти люди голосуют: либо они не голосуют вообще и не протестуют против того, чтобы их голоса присваивались, либо они голосуют за ту власть, которая является их содержателем.
Сергей Медведев: Меня очень интересует этот зазор: каким образом нынешняя российская неоархаизация, неудавшийся транзит, видимо, частично не удавшаяся или целиком не удавшаяся модернизация сочетаются с глобальным модернизационным переходом к четвертой промышленной революции, к обществу сплошной безработицы, обществу роботов, гарантированного минимального дохода, нулевого кредита, блокчейна, биткоина, всех этих инноваций, о которых мы здесь говорим? Каким образом нынешний путинский режим сочетается со всем этим? Или это как-то умещается только в голове Германа Оскаровича Грефа?
Герман Оскарович Греф – один из немногих высокопоставленных людей, который говорит о будущем публично, и за это ему надо сказать спасибо. То, что он говорит, не всегда можно понять, но, по крайней мере, нельзя не приветствовать саму устремленность мысли вперед. Ведь то, что называется футурофобией, боязнью будущего – это очень распространенная у нас болезнь, и чем выше по иерархической пирамиде, тем она распространенней.
В России ценности безопасности и сохранения радикально превалируют над ценностями прогресса и развития
У нас вообще ценности безопасности и сохранения радикально превалируют над ценностями прогресса и развития. В этом едины и власти, и граждане: все боятся будущего, все рассматривают его в терминах угроз и вызовов. Посмотрите по контекстному слову "будущее", какие слова вы увидите рядом: "угрозы" и "вызовы", а не "возможности", "шансы" или "улучшение", которые принесет нам завтрашний день. У нас может быть только возвращение во вчера и позавчера, а в завтрашнем дне одни сплошные угрозы выскакивают на нас из-под кровати. Соответственно, то, что вы называете архаизацией, есть попытка следовать этим ценностям сбережения, безопасности и сохранения.
Сергей Медведев: Согласно всемирному обзору ценностей, который делают Инглхарт и Норрис, Россия всегда находится в спектре, где ценности выживания гораздо выше ценностей самовыражения.
Совершенно верно, это одна из наших базовых бед, потому что с этим сочетается крайне низкий уровень доверия. С уровнем доверия в последние годы становится чуть-чуть получше силой социальных сетей и тех связей, которые они дают. Это сразу чрезвычайно увеличивает оптимистические настроения, так сильно, что даже экономическая деградация не может перебить тот эффект эйфории, которую чувствует человек, который вдруг обнаруживает себя не в одиночестве, а связанным с другими людьми. Все-таки это базовая человеческая потребность. Депривация в этом смысле приводит ко всему на свете, от суицида до наркомании. Любое улучшение в этой сфере сразу дает вам плюс сто в карму, как нынче говорят, плюс сто к вашему социальному самочувствию и даже к вашему политическому оптимизму. Поэтому все так подсаживаются на совместную деятельность.
Сергей Медведев: Как же Россия со своей футурофобией вписывается в этот глобальный расклад?
У нас может быть только возвращение во вчера и позавчера, а в завтрашнем дне одни сплошные угрозы выскакивают на нас из-под кровати
Будь ты футурофоб или футурофил, все равно время для тебя течет точно так же, как для всех остальных. Невозможно закопаться в ямку и сказать: ой, знаете, для меня послезавтра не наступит, пусть всегда будет вчера, всегда пять часов и время пить чай, как в "Алисе в Стране чудес". Но даже там, как вы помните, они пересаживались вокруг стола, чтобы каждый раз иметь чистую посуду. На вопрос Алисы: "Что же вы будете делать, когда сделаете полный круг?" – Мартовский заяц нервозно говорит: "Давайте поговорим на другие темы".
Люди, которые хотят остановить время, очень нервозно относятся к вопросу: что же вы будете делать, когда перемажете всю посуду и съедите все ваши ресурсы? Наш Минфин, совершенно как Мартовский заяц, очень не любит, когда ему задают этот вопрос: "А когда вы проедите фонд, что будет дальше?" – "Давайте поговорим о чем-нибудь другом". А там, может быть, случится что-то невероятное, и проблема рассосется сама собой.
Будущее наступает для всех. Более того, поскольку то будущее, о котором мы с вами говорим, имеет своим базисом глобализацию, то я думаю, что новое явление этого нового века, которое человечество еще не очень видело, состоит в том, что возможно отставание, но невозможна изоляция. Все предыдущие века отстающие страны, неэффективные куски земли были изолированы, то есть я сижу у себя со своим частоколом, я ни к кому не хожу, и ко мне никто не ходит. Я сам себе выращиваю свою брюкву, ем ее, хорошо торгую с соседями пенькой и соболиными шкурками, но не глобализируюсь. В чем было преимущество этого образа жизни? В том, что ты, может быть, живешь хуже, чем сосед, но ты об этом не знаешь. Ты считаешь, что там живут люди с песьими головами, какие-то нехристи, и у нас тут все правильно и хорошо, по староотеческим заветам, а у них там неизвестно что.
Сейчас изоляция невозможна, мир прозрачен, все видят всех, не только путем физического перемещения, но и путем обмена информацией. Причем мы очень близко видим, как живут другие люди. При этом отставание вполне возможно. Одни территории богаче, другие беднее, одни дальше убежали по пути технического прогресса, другие совсем не убежали, но при этом все видят всех. Конечно, это взрывает мозг.
Сейчас изоляция невозможна, мир прозрачен, все видят всех
Я думаю, это одна из пружин, один из двигательных механизмов, в том числе, и мировой террористической активности. Когда молодые люди отсталых территорий (выразимся обобщенно) видят, что другие молодые люди живут совершенно иначе, и при этом они верят в неправильного бога, неправильно себя ведут, не так одеваются, а живут лучше, – это очень многим абсолютно ломает голову. Единственный вариант, который представляется – это "давайте взорвем их к чертовой матери, взорвем этот неправильный мир, потому что он сидит у меня на носу, я не могу никуда от него спрятаться. Я не то что сижу себе тихо в медресе и молюсь – он вокруг меня, этот мир неправильности, поэтому давайте его уничтожим".
Это, с некоторыми поправками, и картинка взаимоотношений России и обобщенного западного мира: мы тоже все это видим, но это неправильное, нехорошее, поэтому давайте огородимся… Огородиться невозможно. Давайте внушать себе, что у нас лучше, но это тоже трудно. Это очень дискомфортная новая ситуация.
Сергей Медведев: Но при этом путинский режим, как мне кажется, очень неплохо встроился в информационный мир. Уровень цифровой культуры, цифровизации отношений в Москве, я считаю, один из самых высоких в мире. Можно прекрасно обойтись без денег, без кредитки, скоро будем везде платить мобильными. Путинский режим научился очень ловко манипулировать интернетом. У многих из нас были оптимистические иллюзии (у меня лично были лет 10-15 назад), что наконец-то интернет победит телевизор, принесет нам свободу, но он ничего не принес.
В чем выражаются эти успехи режима?
Сергей Медведев: По крайней мере, он создал иллюзию глобальных российских хакеров, которых сейчас ищут под каждой кроватью.
Мы извлекаем из этого какую-нибудь пользу? Я очень часто слышу, в том числе и участвуя во всяких международных конференциях, про выдающиеся успехи российской внешней политики, российской внешнеполитической пропаганды. А когда пытаешься пощупать, в чем успех, говорят: "А вот, знаете, на обложке журнала была картинка с Путиным"…
Сергей Медведев: Внутри, в соцсетях, в конце концов.
Человечество постепенно движется по пути меньшего насилия и большего благополучия
О нас много говорят, причем говорят какие-то гадости. Что нам за профит от всего этого? Информационное общество таково, что тут очень многое состоит из разговоров. А когда пытаешься пощупать, эта пена уходит между пальцами. Я не знаю, в чем для нас выгода этой репутации русских хакеров. Нам что, дают за это дешевые кредиты, больше покупают наши товары?
Сергей Медведев: С этим соглашусь. По крайней мере, с точки зрения режима, видимо, это все микроуспехи. Но даже с точки зрения потребителя информации, люди, верящие в распятого мальчика в Славянске, – как они верили из телевизора, так они верят и в интернете. В испанского диспетчера, который не знает, что сбили "Боинг"…
Влияет ли это на их политическое поведение? Мы видим, как люди, которые посмотрели в YouTube фильм про Димона, взяли, да и вышли на митинг, а люди, которые смотрят Дмитрия Киселева, никуда не ходят, если только им не поручают прийти из ЖЭКа или по месту работы.
Сергей Медведев: В этом отношении вы остаетесь технооптимистом?
Сергей Медведев: Вы вообще оптимист – это всем известно.
Технический прогресс принес нам максимальное приближение к избавлению от проблемы голода, которого когда-либо достигало человечество
Я не знаю, в чем мой оптимизм. Но я считаю, что человечество постепенно движется по пути меньшего насилия и большего благополучия – не видеть этого нельзя. Мы живем в годину мира и процветания, если по большому счету. Все-таки никогда не было так мало войн, никогда в этих войнах не было так мало жертв. Это звучит ужасно безнравственно, ведь, смотрите, там воюют и там воюют, в Сирии кого-то поубивали, но человечество всегда воевало гораздо больше, нежели сейчас. И технический прогресс принес нам максимальное приближение к избавлению от проблемы голода, которого когда-либо достигало человечество. В этом смысле у нас есть поводы для оптимизма. Информационное общество увеличивает уровень счастья, потому что связывает людей между собой, а люди хотят быть связанными между собой.
Это очень общие вещи. Если вам конкретно вместо счастья в интернете достаются троллинг и травля, то у вас не будет повышаться уровень счастья, вас это может довести до самоубийства. Лично вы можете потерять работу от технического прогресса, а вовсе не приобрести ее. Тем не менее в целом нельзя не приветствовать движение человечества по пути прогресса.
Сергей Медведев: Процитирую то, что уже сказала Екатерина: возможно отставание одной страны, но невозможна ее изоляция. Я думаю, сейчас мы в этом убеждаемся более, чем когда-либо.
В политической науке есть хорошо известный и изученный феномен: авторитарный или полуавторитарный режим, сталкиваясь с оппозицией, расширяет свою базу поддержки. То есть выступления против власти заставляют ее искать дополнительную опору помимо той, которой она пользовалась традиционно. Если бы термин не звучал так издевательски, можно было бы сказать, что в ответ на протесты авторитарная власть демократизируется. Хотя и не так, как этого обычно желают протестующие. Мы можем это увидеть и на примере посткрымских событий.
Я считаю всю крымскую и восточноукраинскую историю следствием или ответом власти на протесты 2011-2012 годов. Эти протесты были объективным общественно-политическим процессом: они стали манифестацией противоречий между социумом и системой управления. Во времена, как сейчас это принято называть, «сытых двухтысячных» под влиянием одних и тех же факторов — нефтяного благополучия и информационной открытости — общество прогрессировало, а аппарат управления не развивался, а в некоторых своих отсеках деградировал. Разнонаправленное развитие одного и другого — «производительных сил» и «производственных отношений», если говорить языком марксизма (аналогия не полная, но проясняющая картину), — привело к конфликту, который выразил себя в массовых протестах 2011-2012 годов. Это был процесс, который нельзя было «победить», замести под ковер или сделать вид, что его нет. Говорить о том, что протест был «слит» из-за того, что кто-то в какой-то момент неправильно себя повел, занимательно, но малоосмысленно. Понятно, что участники протестов ожидали какой-то другой реакции и других результатов для себя, но из этого не следует, что протест был «подавлен» в смысле «уничтожен». Он имел и продолжает иметь последствия.
К чему привела реакция политического режима? Для граждан и элит были предоставлены новые возможности участия в общественно-политическом процессе. При этом приобретения граждан находились почти исключительно в поле символического, тогда как элиты получили сущностные преимущества.
Как это выглядело? Власти сделали гражданам подарок — Крым. У этого события было множество внешнеполитических, внутриполитических и экономических последствий, но оно должно было вызвать — и вызвало — достаточно долгоиграющую позитивную реакцию. Присоединение Крыма было спецоперацией, которая не требовала никакого гражданского участия ни внутри России, ни в самом Крыму, тем не менее, поскольку людям все это очень понравилось, у них возникло ощущение, что они сделали что-то хорошее вместе с властью. После крымских событий вплоть до второй половины 2016 года число людей, положительно отвечающих на вопрос «Можете ли вы влиять на происходящее в стране?» постоянно росло. «Посткрымская эйфория» в строгом смысле длилась недолго — ее стерли уже осенью 2014 года первые волны экономического кризиса, — однако осознание Крыма как приобретения (а не потери или убытка) продолжается до сих пор.
После крымских событий мнение и интересы армии стали учитываться при принятии политических решений
Внутри элит определенные группы интересов получили от крымской и посткрымской политики бонусы, а значит, стали еще влиятельнее и богаче. Речь в первую очередь идет об армии и ВПК, а также об агрохолдингах и ретейле. Первые заинтересованы в агрессивной внешней политике, высоких расходах на оборону и ВПК и в собственном представительстве во власти. По сложившейся позднесоветской и постсоветской политической традиции армия и флот не являлись политическим актором. Одним из, казалось бы, очевидных, но очень редко замечаемых парадоксов нашей политической системы, начиная с послевоенного периода, является тот факт, что спецслужбы — это политический актор, а армия — нет. По итогам крымской истории и того, что последовало за ней (Восточная Украина и Сирия), армия тоже стала политическим актором, вернула, или, правильнее сказать, приобрела политическую субъектность.
Выражается это в том, что мнение и интересы армии теперь учитываются при принятии политических решений. Даже с точки зрения внешних проявлений и медиакартинки, во всех рейтингах явного и тайного влияния министр обороны будет назван в числе пяти самых значимых людей в стране. С его предшественниками такого не было. По всем циркулирующим легендам он участвовал в принятии ключевого решения по Крыму и являлся одним из основных decision-makers в дальнейшем. Кроме того, армия, которая и раньше получала много денег, теперь получает еще больше. Настолько много, что в 2016 году расходы даже пришлось немного урезать — они стали неподъемными для экономики. ВПК и армия — не единая группа интересов, но и ВПК выиграл от крымской кампании и того, что за ней последовало — прежде всего, в финансировании.
Крупные агропроизводители — сельскохозяйственные холдинги юга России, которым принадлежат целые регионы и которые в правительстве представлены министром сельского хозяйства — бывшим губернатором одного из таких регионов, — получили в качестве бонуса продуктовое эмбарго. По этой причине никакой отмены продуктовых контрсанкций в ближайшее время ожидать не следует: они слишком выгодны. К агрохолдингам присоединяется группа ретейла — сетевой торговли. Для них выигрыш чуть менее очевиден, потому что средний чек покупателей сетей уменьшился: крымская история и ее последствия отрицательно повлияли на доходы населения. Тем не менее для них сотрудничество с агропроизводителями и монополизм на внутреннем рынке, избавление от западных конкурентов — тоже фактор выгоды.
Можно выделить еще одну, менее очевидную (хотя постоянно находящуюся на виду) группу интересов — медиабюрократию, то, что называется «машиной пропаганды». Эти люди тоже получили больше, чем имели: внимание, политический статус и деньги.
Люди выбрали стратегию пассивной адаптации к новым экономическим условиям, но одновременно с этим произошло усиление политической апатии и абсентеизма
Говоря о последствиях 2014 года, важно отметить не только то, что произошло, но и то, чего не случилось. Система не перешла на военное положение, не вступила в прямой конфликт со всем миром. Ее испугала изоляция, и она стала спасаться от нее всеми методами, в том числе хаотично вмешиваясь в любые мировые процессы без какой-либо внятной цели, кроме одной — избежать изоляции. Но что еще важнее — когда за крымской историей началась история на востоке Украины, большинство граждан не приняли в ней участие. Учитывая масштабы нашей страны, поехать в Донбасс могло бы гораздо больше людей, если бы эта история действительно отвечала на внутренние потребности общества. Но этого не произошло. Участие в этих событиях российских военных спецслужб говорит о том, что добровольцев недостаточно (а сама необходимость привлечения добровольцев — о том, что было недостаточно поддержки местного населения).
Все увлекательные приключения России 2014 года не вызвали внутри страны мощной националистической волны. Можно было ожидать, что в ответ на украинские события и Крым в России приобретут популярность националистические идеи. Если бы это было так, мы бы увидели новые националистические силы: новые партии и новых лидеров. Это была бы волна такой энергии, с которой власть ничего не могла бы сделать. Но она успела вовремя кооптировать одних и репрессировать других. То, что это удалось сделать с такой легкостью, говорит еще и о том, что сущностная поддержка националистических сил была невелика.
Проще говоря, на них не было спроса. Уже по результатам региональных выборов осенью 2014 года можно сделать вывод, что те партии, которые усиленно использовали как крымскую, так и националистическую, ультрапатриотическую повестку («Родина», «Патриоты России», «Коммунисты России»), не получили за это никаких электоральных преимуществ. Парламентские выборы 2016 года этот вывод только подтвердили. Сейчас понимать это особенно важно, потому что за прошедшее с 2014 года время экономическое положение граждан ухудшилось (мы видим по динамике доходов). Люди выбрали стратегию пассивной адаптации. Но одновременно с этой пассивной адаптацией к новым экономическим условиям произошло усиление политической апатии и абсентеизма. И это станет главной проблемой выборов 2018 года: над ее решением сейчас преимущественно думает наш политический менеджмент.